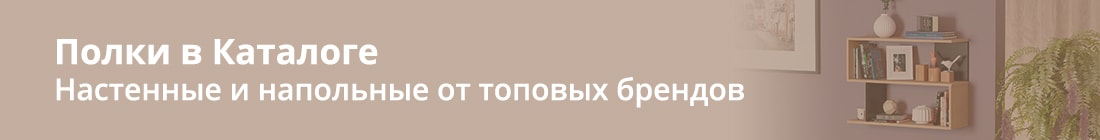«Все мы друг для друга стали мертвые в интернете». Писательница Татьяна Замировская про цифровое воскрешение, критику Дмитрия Быкова и свой дебютный роман
«Все мы друг для друга стали мертвые в интернете». Писательница Татьяна Замировская про цифровое воскрешение, критику Дмитрия Быкова и свой дебютный роман
«Я отрицала русскоязычную поп-музыку: для меня это был индикатор дурного вкуса»
— В одном из интервью ты привела слова своей мамы: «Здоровая психика — как кожаный диван: роскошь, которую не каждый может себе позволить». Мамино остроумие — это в тебе наследственное?
— Думаю, да, это семейное. В семье у моих родителей ценился своеобразный черный юмор. И моя мама, как человек, научивший меня читать правильные книжки, как раз любит так шутить. Когда я была подростком, она мне принесла сдвоенную книгу «Заводной апельсин» и «Полет над гнездом кукушки» и сказала, что каждый подросток должен эти книги прочесть.
— Мама имела какое-то отношение к литературе? Может, преподавала?
— Она была преподавателем музыки.
— Тебя мучили музыкой в детстве?
— Было очень драматично. Мама с детства занималась музыкой — почему-то считалось, что она должна стать пианисткой. То есть правильное образование, которое может получить девочка, — во всяком случае, у нас в семье по женской линии. То есть девочка должна заниматься какими-то милыми творческими вещами. Мамина сестра, моя тетя, тоже училась в музыкальном училище и тоже была пианисткой. Они обе преподавали, и я должна была, по логике, потому что с детства обожала музыку, но тут включились еще какие-то гены — оказалось, что у меня нет особенного таланта. У меня был абсолютный слух, но руки и пальцы были сделаны из поролона и дерева. И ничего из этого не работало, и я все время, пока училась в музыкальной школе, слышала от учителей, что я дебил, что яблоко от яблони улетело в другую вселенную.
— Что природа отдохнула?
— Природа отдохнула просто замечательно, и какая у тебя была мама-пианист, и какое ты г...но. Было очень болезненно всю дорогу. Я доучилась в музыкальной школе и сказала, что всё, хватит.
— Но ты все же окончила?
— Да. У нас в борисовской музыкальной школе была хорошая практика к последнему курсу делить детей на талантливых и детей-дебилов. То есть те, которые пойдут дальше в училище и консерваторию, учатся в классе талантливых детей. А дебилы доучиваются год — адпусціў-паваліўся. Непонятно зачем, но давали диплом: считалось, что мы тоже люди.
— Помимо травм, музыка дала тебе хоть что-то позитивное?
— Ничего. Одни травмы. Хотя был один хороший результат. У нас была страшно, как сейчас модно говорить, абъюзивная преподавательница сольфеджио — до сих пор помню, как она при всех говорила: «Посмотрите на Замировскую — у человека интеллект совершенно нулевой, у нее задержка в психическом развитии. Посмотрите, вот я сейчас говорю, а она даже не понимает того, ЧТО я говорю». А я, естественно, сижу с совершенно офигевшим лицом и сказать ничего не могу: на меня все это гипнотически действует. «Она не понимает обычных слов, — продолжает сольфеджистка. — Уровень идиота, но какой слух. Я сейчас сыграю аккорд — и она назовет все ноты в этом аккорде, вот смотрите». Нажимает аккорд. Говорю: «Доминант септаккорд в тональности ре-мажор». Вот видите, говорит, а у человека интеллект ниже, чем у курицы (нехорошо смеется. — Прим. Onliner). Для финального экзамена нам нужно было спеть две композиции с аккомпанементом. На английском, жалко, было нельзя — было бы проще. С русским роком у меня отношения были неважные. И я исполнила две песни Вертинского — одну про лилового негра. Вторую — про пса отравившейся хозяйки, за чьим гробом тот в слякоть шел. Я себя чувствовала просто идеально мстящей за все свои детские унижения. Я хорошо помню ее лицо.
— Я представляю...
— Это было так неожиданно. Для борисовской музыкальной школы начала 90-х это был не просто сопливый декаданс, но что-то большее — такая нацеленная брезгливая мерзость.
— А что для тебя было важно? Какую музыку ты тогда слушала?
— Сам ребенок не будет изыскивать какую-то ультракрутую музыку, если в его окружении нет способа ее изыскать. В моем случае это были родители и друг их юных лет Олег Джаггер, который жил и взрослел в Борисове и добывал им всякие пластиночки. Когда я была еще совсем маленькая, ему нравилось меня тренировать — он говорил: «Танечка, иди принеси Sticky Fingers». И я шла и приносила этот альбом. Я еще тогда нормально общаться не могла, а уже могла отличить Beatles от Rolling Stones. Я была нетипичным подростком: не отрицала музыку своих родителей. Я отрицала музыку ровесников. Меня очень бесило то, что они слушают, потому что это было чудовищно.
Всю эту русскую попсу, которую все слушали в начале 90-х: Юра Шатунов, «Ласковый май», «Любэ». У мамы была любимая группа Police. Естественно, начинаешь слушать Police и понимать, что это нормальная музыка, а та плохая.
Я училась в школе с углубленным изучением английского языка, к нам по обмену приезжали английские дети, и я сама ездила в Лондон, когда мне было лет 14. Когда я сказала кому-то, что у меня любимая группа Beatles, все засмеялись и сказали: «Beatles это вообще не самая великая группа, надо слушать Smiths». И мне дали кассету со Smiths на одной стороне и Моррисси — с другой. Я помню шок, когда тебе 14 лет, ты слушаешь Smiths и думаешь: «Wow». Ну и конечно, с этой же подачи слушала брит-поп — Blur, Oasis, Pulp. Я отрицала русскоязычную поп-музыку — для меня это был индикатор дурного вкуса. Я плохо относилась к группе «Кино». Где здесь мелодия? Бубнит что-то на одной ноте. Есть же Cure, другие куда более интересные группы. Очень поздно, лет после 20 только, я поняла, что это великая музыка, но нужно было время, чтобы это осознать.
«Есть дети, которые хотят нравиться взрослым, а мне хотелось нравиться детям»
— Скажи, как появился твой ник Vinah в ЖЖ?
— Это опосредованно связано с Максимом Кульшой и группой Super Besse, хотя про это трудно сразу сказать. У меня была любимая книжка, когда мне было 20 лет. Она называлась Ground Beneath Her Feet — «Земля под ее ногами» Салмана Рушди. Там рассказывается история рок-музыки, но сдвинуто, в немножко параллельном мире. Там Леннона не убили — убили кого-то другого. Застрелили, наоборот, Элвиса — он не стал толстым и унылым, а стал погибшим героем. Все построено на таких сдвигах и допущениях, эта книга на меня очень повлияла. Тексты воображаемой группе, о которой пишет Рушди, написал Боно. И там главную героиню звали Vina. Я взяла себе этот псевдоним как никнейм, как только начала присутствовать в байнете в конце девяностых — начале нулевых. И когда дошло до того, что мне друзья завели ЖЖ, выяснилось, что в западном мире все эту книжку уже прочитали и, конечно, этот ник был уже занят, поэтому они добавили неслышное h. На автомате это произносили как «винах», потом стали произносить «вайнах», что было еще смешнее.
И вот я разговариваю с женой Максима Кульши — ее зовут Нина, а дочку они назвали Вина. Спрашиваю: «А вы дочку назвали из-за книжки Рушди?» Да, говорит, это моя любимая книжка. И я сказала: «Так ведь это тоже я — я эту книжку тоже очень люблю».
— Когда ты начала писать и что тебя к этому подтолкнуло?
— На меня вообще очень действовала художественная литература и тексты. Я начала читать, когда начала внятно мыслить. Я в 3 года научилась читать практически самостоятельно — я меньше общалась с людьми, чем читала. Совершенно текстовый персонаж. Когда я начала читать художественные журналы, например журнал «Трамвай» (его читали все советские дети), поняла, что художественный текст воздействует на людей, он меняет жизни — меня этот журнал совершенно потряс, там печатались рассказы Петрушевской, Хармса, был Георгий Иванов «Распад атома». Там Елену Гуро даже печатали. И я поняла, что, если не могу воздействовать музыкой, я хочу воздействовать словом. Для меня это был способ коммуникации: непосредственно face-to-face я была достаточно замкнутая, а мне хотелось влиять. Поэтому я с детства что-то писала. Есть дети, которые хотят нравиться взрослым, а мне хотелось нравиться детям. С детьми сложно — они вообще-то адские создания. Поэтому я писала истории, стихи, какие-то поэмы и читала их одноклассникам. Я приходила и говорила: «Пацаны, я написала поэму про нашего физика». И все такие: «Йе-е, Замировская на перемене прочитает поэму про физика-а!» (смеется. — Прим. Onliner).
— У тебя в классе была литературная репутация? Таня-поэт?
— Это была Таня, помешанная на немодной нафталиновой музыке, которая пишет угарные стихи и рассказы. Entertainer.
Я заявлялась с достаточно концептуальными идеями. Например, у меня была поэма про смерть. Человека на заводе убило прессом. И я в каждой главе поэмы описываю его посмертное существование. Что с ним происходит, когда он попадает в скорую, потом в морг, подробно — что с ним в морге, как его вскрывают. Потом он там лежит, потом его хоронят, потом могила, потом от него ничего не остается. Такой немного Tiger Lillies.
— Получается, у тебя в школе был опыт выступлений? Некий стендап?
— Мне очень нравилось выступать публично — потом, когда я стала журналисткой, я все это немного задвинула. Удивительно было после себе это вернуть, когда я сюда переехала и стала учиться в Bard и надо было выступать как-то со своими текстами и делать перформансы. Я не работала как чистый чтец. Я вносила элементы перформанса в свое чтение, когда реакция публики определяет твои дальнейшие действия.
— Мы не были близко знакомы здесь. У меня было ощущение, что ты очень талантливый, но очень замкнутый человек — ты пишешь. Насколько это связано с твоим самоощущением в более сдержанном белорусском социуме? Оказала ли влияние на тебя вот эта даже несколько демонстративная открытость американцев?
— Нет. Это больше мое собственное, потому что мне всегда очень нравилось быть на публике. Когда я еще играла на фортепиано, мне было лет пятнадцать, наверное, мы с моим другом-барабанщиком сделали такую группу. И мы с ней пытались вбиться просто куда угодно — я где-то писала, что мы выступили с позором на Дне ветеранов в городе Борисове (смеется. — Прим. Onliner). Мне как раз нравилось быть на сцене, потому что для человека замкнутого и стеснительного сцена это safe space, как ни странно. Почему мне нравится микрофон — он дает мне еще большую дистанцию. Потому что ты инкапсулирован — ты как в аквариуме: да, на тебя смотрят, но тебе окей. Главное — находиться внутри, эту дистанцию уже не может кто угодно нарушить. Когда ты с микрофоном, как мне сказал один из преподавателей колледжа, you are in charge — ты держишь. Я это поняла, еще когда на «Радыё Рацыя» работала, что мне нравится записывать передачи и говорить от первого лица. Просто в Беларуси не было способов так себя проявлять — и так все вокруг себя проявляли, чего ж еще и мне-то. Когда я переехала сюда учиться, поняла, что мне в принципе нравится говорить.
Мне еще ужасно повезло: мне дала мастер-класс Диаманда Галлас, она была преподавателем нашего колледжа, но у музыкантов. Я очень дружила с музыкантами, ходила к ним на все лекции — и мне выбили с ней аудиенцию. Она меня учила сценическому присутствию. И я заметила, что, читая текст в каких-то галереях, сценических пространствах, я себя стала чувствовать комфортно.
И здесь я поняла, что хочу преподавать. Раньше работа мечты была сидеть что-то тихонечко писать. Сейчас работа мечты — работать с публикой и действенно помогать.
— Как ты чувствуешь себя в английском языке? Были ли трудности перехода в иную языковую среду?
— Было ужасно. Это была отдельная драма. Я с детства говорила по-английски — я училась в английской школе. Несмотря на то что я хотела быть лингвистом и поступать в иняз, учителя меня отговорили: сказали, что у меня нет таланта к языкам, нет дара — у меня даже по литературе всегда была четверка, по русскому языку — я не нравилась учителям. В общем, меня отговорили, я послушалась и пошла на журфак. Язык я, может быть, чуть-чуть растеряла, но потом начала работать в «Музыкальной газете» и брала огромное количество интервью на английском, причем со своими любимыми музыкантами — The Who, Therapy?, Porcupine Tree, сама договаривалась с ними поговорить. Параллельно в «МГ» было огромное количество запланированных интервью, которые организовывали лейблы. Потом газета закрылась, у меня был перерыв в языке — я приезжаю в Нью-Йорк как турист, мне уже 29 лет, и я не понимаю, о чем люди говорят — потому что я привыкла к нашему идеальному британскому школьному английскому. А они проглатывают звук t и вместо water говорят «ворэ» и вместо twenty говорят «твони». И когда я уже сюда переехала и стала учиться, несмотря на то, что я сдала TOEFL на какой-то высокий балл, очень долго приучалась к другому английскому. Для меня британский и американский — как две разные системы в голове, и в какой-то момент эта система перещелкнулась. Я писала маленькие сценарии для телевидения, и мне нужно было переслушать интервью с сэром Полом Маккартни. Я включаю и осознаю: я перестала его понимать. Всё!
— Каково было начать писать по-английски?
— Писать так же, как я пишу по-русски, невозможно. Я думала, как и раньше буду писать по-русски, потом переводить на свой средненького качества английский. Я постоянно профессорам говорила, что никогда не смогу писать по-английски изначально.
Писать с нуля на другом языке — я чувствую себя немножко немой, безъязыкой. И одна моя профессорка — применю здесь этот раздражающий феминитив — предложила мне написать диплом сразу на английском, а те сложности, которые я испытываю в процессе написания, в том числе психологические, сделать целью моего дипломного исследования. Я писала свой магистерский диплом по афазии и немоте (muteness) как практике, как метафоре — потому что это хорошая метафора. И в каком-то смысле как о биополитическом инструменте. Возьмем тот же белорусский язык — почему я не могу изначально писать на белорусском? Да, я хоть и могу, но исторически он не был мне родным, потому что русская империя его повсеместно уничтожала. То есть в русском языке есть некий тоталитаризм.
Следовательно, я могу позволить себе выйти за пределы диктатуры русского языка и писать на языке, с которым у меня в голове нет устоявшихся схем и преференций. Это будет письмо, избавленное от сетей давления языкового массива, который я не выбирала, я просто с ним родилась.
Я как-то сказала американцам: «My mother tongue is not my grandmother’s tongue»: для всех белорусов так. Белорусский язык — это не язык наших бабушек, потому что те говорили на смеси белорусского, польского и какого-то еще. То есть мы это не выбирали — это как цвет кожи. Можно попробовать из этого куда-то вырваться и посмотреть, как расширяется твое сознание, если ты выходишь за пределы привычной речи. И даже если ты этот язык не знаешь идеально, то ты можешь, например, на нем исследовать неидеальность. Ты чувствуешь себя несовершенным в чужом языке — окей, ты начинаешь дальше копать и смотреть, как работает это несовершенство, неспособность выразить себя. Я написала про это кусок повести на английском — как-нибудь обязательно ее доделаю — и к нему теоретический такой «дадатак» про онемение и диктатуру русского языка, про нарушения речи — мне самой это очень интересно, потому что у меня бывали мигрени с выключением речевой и интерпретационной зоны мозга.
— Эти мигрени все реже и реже, по мере того как ты живешь в Нью-Йорке все дольше и дольше?
— Кстати, да. В последний раз это было в творческой резиденции — я читала книжку Оливера Сакса как раз про нарушения восприятия. И вдруг я поняла, что вижу текст и его не понимаю: то есть глаз видит буквы как симметричные графические символы, а мозг их вдруг перестал интерпретировать. Я поняла, как себя чувствует человек с сенсорно-моторной афазией. Ты смотришь в книгу и реально видишь фигу — ты ее видишь! Это потрясающе — побывать в шкуре человека, у которого был инсульт, но вынырнуть оттуда целым и невредимым. Это удача, что ты можешь откатить назад состояние, в котором люди застревают на годы.
«Сейчас не то что автора нет. Сегодня и „автора нет“ нет»
— Меня удивляло, что ты, продолжительное время живя в Нью-Йорке, с чересчур пристальным вниманием следила за белорусской музыкой. Правильное ли это ощущение?
— Наверное, да. Надо мной даже подшучивали по этому поводу в Facebook. Валера Краснагир говорил, что, надо же, Замировская, ты давно живешь в США, можешь ходить в CBGB (культовый нью-йоркский клуб), хоть его и закрыли, и при этом пишешь, как тебе рвет душу новый альбом группы Drezden. Дескать, как это смешно и нелепо. Вот этот шейминг привязанности к белорусской музыке ранил меня намного больше, чем эмоциональная составляющая альбома Drezden. Для меня белорусская музыка при всех моих сложных с ней отношениях была инструментом выстраивания идентичности. Я никогда не считала себя русским человеком, несмотря на свою русскоязычность, поэтому русская музыка для меня всегда была чужой. Скажем, тот же Конрад Ерофеев меня тоже шеймил, что я не слушала Монеточку, Фейса, кого-то еще. Он даже пытался мне говорить, что я уже старая. Я говорю, когда я и молодая была, меня эта фигня не интересовала: это другая культура. Я не понимаю, куда себя вставить в эту культуру. А в Беларуси — моя культура, я здесь росла. То есть музыка нам нужна, чтобы с ней слиться и идентифицироваться. Получается, что белорусская музыка была про меня, а русская — про моих русскоязычных друзей, которые взрослели в Москве. Она помогает мне их понять, но мне меня она понять не помогает.
Поэтому, когда я сюда переехала, белорусская музыка помогла мне выстраивать отдельную идентичность. А здесь, в Америке, если ты иммигрант, если позиционируешься как художник, от тебя требуют identity politics, ты обязан себя в культурной парадигме разместить.
— Синонимично ли это размещение понятию авторства?
— Я не верю в авторство вообще. Сейчас не то что автора нет. Сегодня и «автора нет» нет.
— Какими были этапы твоего перехода к крупной форме?
— Я издала первую книжечку с хармсовскими рассказами из ЖЖ. Хорошо помню, как Валентин Акудович (мы с ним раньше работали над сборником его ученика — рано ушедшего поэта Андруся Белоокого), прочитав, сказал мне: «Усё добра, але ж другую такую кніжку вы ўжо не здолееце напісаць». И правда: я потом поняла, что не могу больше писать такие ультракороткие рассказы, а для длинных нужен другой уровень концентрации, большее количество собственного «я» и еще надо использовать внешний мир. Я спросила у своей подруги писательницы Евгении Добровой, как написать вторую книгу. Она сказала: «Это сложно, потому что первую книгу ты пишешь собственной кровью, а вторую — чужой». Тут мне стало еще страшнее. Я еще пошла к Адаму Глобусу — я послушно следую путеводным звездам authorities каких-то, я же росла на его текстах. Я ему сказала: «Дядя Вова, как мне написать роман, что нужно, чтобы написать что-то большое?» И дядя Вова сказал: «Замировская, пока ты не прочитаешь „Циников“ Мариенгофа, ты не напишешь роман». Я прочитала «Циников» и стала писать большие рассказы. И поняла одну вещь: даже для большого рассказа (20 000—30 000 знаков) ты уже не можешь придумывать тряпичных кукольных героев.
— Упал и умер?
— Да. Это уже больше не театр с Петрушками. Это герои, они живые. Это и есть та самая чужая кровь, но и немножечко своей тоже. Это гораздо большее душевное усилие, но получаешь гораздо больше отдачи — ты выпускаешь в мир что-то живое, а не просто анимационную пьеску для шарманки. Это совершенно другой жанр — я писала эти большие рассказы, и я их все увеличивала и увеличивала. Когда я писала рассказы для «Земли случайных чисел», у меня было пару текстов объема повести. Это как штанга — все бóльшая ажурная конструкция, но чугунная. Такой чугунный ажур — фасады нью-йоркских небоскребов — я поднимала, это я держу, окей!
Больше — держу тоже. Нормально, можно поднять еще больше! Я просто это тренировала, потому что оказалось, что нужен еще и сюжет. Я много работала над сюжетами. Я на полном серьезе историями для «Земли случайных чисел» горжусь: мне кажется, крутые сюжеты и, думаю, по ним будет сделан какой-нибудь маленький сериал типа «Черного зеркала». А с романом так: он начинался как большой рассказ. Я решила написать большой рассказ про цифровое бессмертие. Села и писала залпом просто, не отрываясь, несколько дней. Тысяч на пятьдесят знаков вышел рассказ. Я его написала, поставила точку — и поняла, что это начало.
У меня было ощущение, будто в комнату, словно в огромный ангар, вплывает какой-то дирижабль в полной темноте, и ты потрогал только одну стеночку этого дирижабля.
— И по очертаниям этой стеночки ты с ужасом поняла объем всей конструкции?
— Именно. Ты потер ладошкой и думаешь: ой бл...! И понимаешь, что, пока ты его целиком, как муха, не исползаешь, не соткешь эту всю огромную штуку, он тебя не отпустит. И я полтора года писала большой текст. А потом еще три месяца находила в нем торчащие нитки и связывала. Потому что, даже если ты это делаешь как философский арт-проект, все равно это внешне должна быть форма литературы и все должно быть со всем связано. Хочешь арт-проект — иди в музей, делай, бл..., арт-проект.
«Какой была бы реальность, если бы она была такой, какой мы ее себе запомнили?»
— Расскажи, о чем твоя книга?
— Там есть одна идея, которую я вообще никогда ни у кого не видела. Это меня утешало, когда я наблюдала за другими произведениями на эту тему. Мой текст в первую очередь о дистанции и коммуникации. Здесь, в Америке, я не имею возможности выезжать и теперь не могу приехать в Беларусь — мне казалось, что это я для всех умерла. Что я тут мертвая, а они все живые, и я стараюсь достучаться в мир живых через Skype, через мессенджер. Но потрогать этих людей... Как я писала, очень трудно сохранять дружбу с тем, с кем ты не можешь бухать за одним столом. Когда вы вместе выпиваете по Skype, это не то — и мне казалось, что я для всех умерла. И я писала об этом в том числе. А потом, когда я уже закончила роман, случился коронавирус, и все мы друг для друга стали мертвые в интернете, которых ни обнять, ни потрогать. В каком-то смысле это роман про границы — между живыми и мертвыми, цифровыми и аналоговыми. И про то, что чем сильнее развивается человечество, тем больше этих границ. И потом, как я придумала, этих вот мертвых, которых можно скопировать, их где-то хранят на сервере. Для меня это полный аналог того, о чем говорил Николай Федоров в своей «Философии общего дела». Федоров — один из предтечей русского космизма. По его теории, когда всех мертвых воскресят при помощи технологий, они будут вынуждены разместиться в музее, потому что мертвые из разных эпох не смогут сосуществовать. Для создания и размещения этих музеев придется колонизировать другие планеты — нам нужна колонизация космоса, чтобы размещать там воскресшее человечество. Воскрешение в принципе невозможно без такого музея. Меня это потрясло в контексте цифрового воскрешения, потому что это тоже музей — все мертвые хранятся в музее. И потом я подумала, что всем этим мертвым ужасно одиноко, потому что каждое это скопированное сознание может общаться только в чатике со своими близкими. Тогда я придумала, что все сознания мертвых решили объединить в один контекст. У них там есть свой мир, но это только мир, каким они его запомнили. То есть они существуют в реальности, которая есть объединенный контекст их воспоминаний, представлений о реальности и каких-то надежд на реальность, какой она должна быть. Получается, что они живут в мире, который полностью похож на наш мир, но восстановлен из их коллективной памяти. Меня эта тема совершенно очаровывает — какой была бы реальность, если бы она была такой, какой мы ее себе запомнили? Когда я начала писать эту реальность коллективной памяти, я поняла страшное и прекрасное: если много людей коллективно кого-то помнят, он в этой реальности может появиться. Для меня это еще было поводом для разговора о наших белорусских прекрасных умерших молодыми талантливых людях — тот же поэт Андрусь Белоокий, Свет (Святослав Ходонович), безусловно, Саша Кулинкович (я начала писать роман, именно когда Саша умер).
Я еще хотела изучить речь людей о рано ушедших талантливых ровесниках. Форма речи, воспоминания, речь памяти. Вспомнить именно как речь, как мы говорим, как мы вспоминаем — что каждый из нас остается в форме фрагмента коллективной речи. Мы после смерти — это коллективная речь.
— Но тебе не кажется, что по мере развития технологии общения мы все больше виртуализируемся и коронавирус только «узаконил» это состояние?
— Мне кажется, наоборот, коронавирус показал, что это преходяще и что живая жизнь нужна нам как ничто другое. Это как раз не полный уход в виртуальность. Момент тотальной виртуальности дает человечеству понять, что это всего лишь этап. У нас все настолько было заперто, особенно когда прошлой весной повсюду была смерть. Тогда на улицу хотелось выходить больше всего — трогать деревья, смотреть на животных, разговаривать с людьми. Что мне больше всего нравилось в Нью-Йорке, когда я сюда переехала: здесь невежливо проверять телефоны во время общения. Здесь многие — особенно молодые художники — отказываются от социальных сетей, постоянно делают social media detox, у многих нет «Фейсбука». Стало правилом хорошего тона не уваливаться в виртуальность. Я помню даже была в ярости, когда приезжали в гости белорусские друзья и все время сидели в телефоне: хотелось отобрать телефоны и бить их этими телефонами по голове! Дома сидите, если у вас работа — работайте дома! То есть для меня это выглядело дико, хотя и я сама была когда-то такой.
То есть здесь живое общение ценится, и после коронавируса стало понятно, насколько это luxury — пойти в бар и выпить за стойкой бара с живым человеком, это не сравнится ни с чем.
— Страдания еще советских иммигрантов в США были связаны с тем, что не с кем поговорить. Тебя сразу отправляли к психотерапевту. Насколько этот стереотип оправдан сегодня?
— Я считаю, что отчасти это стереотип. По крайней мере то, как белорусы общаются — это такое complain and explain, то есть ты постоянно объясняешь, но одновременно ты постоянно жалуешься. Среди постсоветских иммигрантов стало правилом хорошего тона быть в терапии — и это несколько раздражает. У меня даже были знакомые, которые говорили: «Мы не дружим с теми, кто не был в терапии». Как правило, это русскоязычные знакомые, такого фанатичного отношения у самих американцев к терапии нет. Они относятся к терапии как к норме, а не как к новой игрушке.
У меня в романе, кстати, запрещена терапия. Терапия — как тяжелые наркотики, за нее дают самые большие сроки. Если станет известно, что ты сходил подпольно к терапевту и он провел с тобой сессию, тебя могут посадить на 15 лет. Это где-то и мое личное к этому отношение. Американцы же как раз тебе будут постоянно рассказывать о себе, о своей жизни — если ты, не дай бог, спросишь — о своем детстве абсолютно всё, потому что они так привыкли к этому исповедальному стилю речи.
— Как на группе?
— Речь о себе превращается в новую норму, она становится натренированной, как мышцы, — такая форма тренировки речи. Как только ты нажимаешь в них эту кнопку, они уже не могут остановиться — это как две стороны одной свечи, которая горит, но никогда не сгорает.
— Ты уже второй раз номинируешься на престижную литературную премию. Первый раз это был сборник «Земля случайных чисел». Сейчас «Смерти.net» номинируется на серьезную премию в России.
— Уже не выиграла (смеется. — Прим. Onliner).
— Тем не менее само попадание в список тоже весьма значимо. Как это отражается на твоем статусе там, где ты живешь, и насколько этот факт известен твоим коллегам и друзьям в США?
— Если я захочу, я могу сказать об этом, и коллеги и друзья будут меня больше уважать (смеется. — Прим. Onliner). Вообще-то, никак не отразилось — просто приятно, что заметили и номинировали. Раньше я не могла похвастаться тем, что мои книжки проходили слишком замеченными, если честно. Здесь мне просто приятно — но я правда очень старалась.
— Чей отзыв был для тебя важен?
— Я выслала, кстати, роман Дмитрию Быкову почитать, просто вспомнила, что он читал мою дебютную книжку — она ему так не понравилась, что он ее даже залажал на «Эхе Москвы». Я страшно тогда гордилась, что сам Дмитрий Быков залажал мою книжку. Он ее прочитал, потому что я сделала его куклу. Я должна была в 2010 году вместе с еще двумя писательницами выступать на каком-то форуме на московской книжной ярмарке, и с нами должен был выступать, собственно, Быков. Но Быков решил не приходить, поскольку мы начинающие писательницы — он, может, посчитал, зачем ему. И когда мы поняли, что он не придет, мы подумали, что придут все эти (по)читатели Быкова, вся эта интеллигенция — а там сидят только три девчонки. И они тогда спросят: «А где Быков?» И я тогда говорю Жене Добровой и Улье Нове: «Давайте мы сделаем куклу Быкова». И мы всю ночь шили куклу Быкова — кукла вышла совершенно умилительная, вылитый Быков. Я вырезала глаза певицы Люкке Ли из модного журнала, перевернула их, и появилась эта быковская поволока.... Пришли читательницы, спросили, где Быков, и мы достали куклу. И я от лица Быкова дала комментарии обо всей х...не, которая в России происходит, о российском книгоиздании, о Беларуси и России — совершенно исчерпывающие комментарии. И на следующий день я узнала, что по книжной ярмарке ходит Быков и спрашивает, где эта девочка, которая сделала его куклу. Я сама подошла, сказала: «Быков, это я сделала твою куклу». Он очень заинтересовался, прочитал мой сборник, и он ему весьма не понравился.
И вот сейчас я пришла к нему в чат, сказала: «Помните, я когда-то сделала вашу куклу — вряд ли вы меня когда-нибудь забудете. Рассказы вам не понравились, но у меня теперь есть роман — вдруг зайдет». Он прочитал и похвалил его. Тоже на «Эхе Москвы». Так что через десять лет круг замкнулся.
Но вообще для меня очень ценны читательские отзывы. Я не очень избалована рецензиями критиков, а если и были рецензии — они все равно слишком сильно крутились вокруг моего музыкального прошлого, что кажется мне не совсем правильным. Иногда мне прилетали такие чудесные отзывы от читателей, что я понимала: вот ради этого и пишу.
— После твоей магистерской работы про афазию ты по-английски писала что-нибудь?
— С нуля нет. Художественный текст в жанре, в котором я работаю, написать с нуля сложно. Мне очень повезло: у меня нашлась переводчица — ее зовут Фиона Белл. Она прочитала мой рассказ про локдаун «Хлорофилл» и захотела его перевести. Она идеально сохранила весь мой черный юмор. Когда я сама перевожу, у меня появляется режим психотерапии — overexplaining. А она ничего не объясняет. Просто хоп — и перевела.
Но зато я поняла: на английском могу поговорить о своем белорусском опыте. Главное — не писать об этом на русском, потому что важно показать события не так, как они у меня привычно уложены. Может быть, я напишу книгу о своем опыте в белорусской музыкальной журналистике в эпоху нулевых.
Ее тоже важно написать не на том языке, на котором я проживала этот опыт.
Для любимых книг, фотографий и цветов — красивые и удобные полки в Каталоге
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро